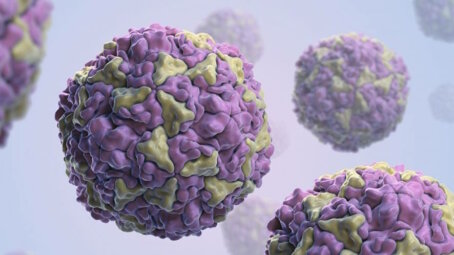Когда лингвисты рассуждают о том, что ударение в слове «звонит» рано или поздно сместится на «звОнит», возникает закономерный вопрос: а кто, собственно, будет решать, когда этот момент настал? Ведь язык — это не свод правил, спущенных сверху, а живая стихия, которой управляют миллионы говорящих. И если поколение, цепляющееся за «звонИт», ещё живо, то любые попытки узаконить новый вариант будут выглядеть как преждевременная капитуляция перед «модными» тенденциями. Хотя, конечно, история знает массу примеров, когда некогда «безграмотные» ударения становились нормой. Вот только всегда ли это было естественным процессом — или же кому-то очень хотелось ускорить ход времени?
Что особенно забавляет, так это попытки представить языковые изменения как некий неотвратимый закон природы. Мол, раз «варИт» когда-то превратилось в «вАрит», то и «звонИт» обречено пасть под натиском «звОнит». Но язык — не физика, здесь нет жёстких закономерностей. И если уж на то пошло, то почему мы до сих пор говорим «любИт», а не «лЮбит»? Почему «верИт», а не «вЕрит»? Видимо, не все глаголы одинаково полезны для революции ударений.
Но главный подтекст этой дискуссии даже не в лингвистике, а в том, как общество реагирует на изменения. Одни яростно защищают «традиционный» вариант, другие с упоением принимают «новый», а третьи (чаще всего чиновники от образования) делают вид, что всё под контролем. А между тем язык давно уже живёт своей жизнью, и никакие академические постановления не заставят людей говорить «правильно», если они уже привыкли иначе. Так что, возможно, спор о «звонИт» и «звОнит» — это просто ещё одна площадка для вечного конфликта между консерваторами и прогрессистами. И победит в нём, как всегда, время. Хотя бы через сто лет, считает Дмитрий Олейник.